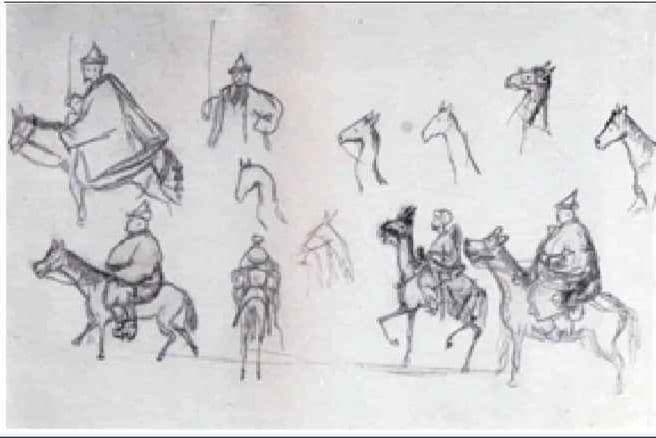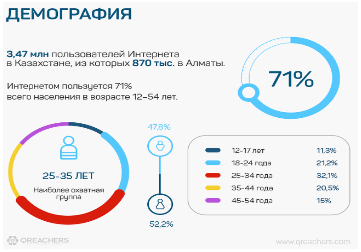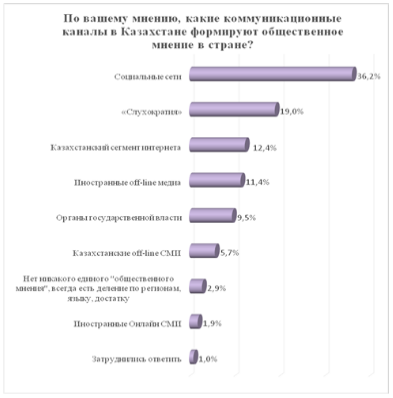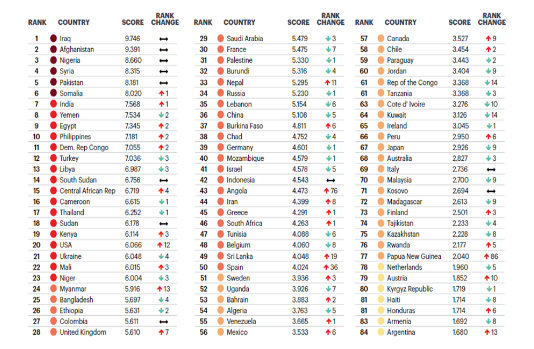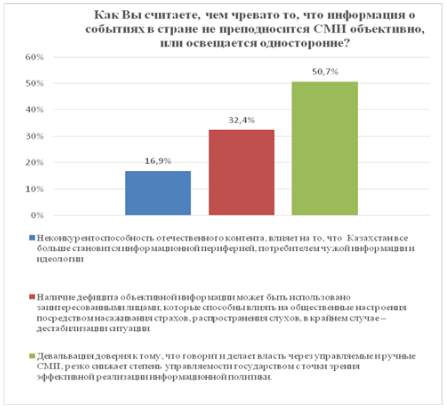Шон Лоут. Кино хайдеггерлік өнер ме? Хайдеггерді, киноны және оның Терренс Маликпен байланысын қайта бағалау. Аударған Сафина Ақтай
Шон Лоут. Кино хайдеггерлік өнер ме? Хайдеггерді, киноны және оның Терренс Маликпен байланысын қайта бағалау.
- Кіріспе
Кино философтары Стэнли Кэвеллдің «The World Viewed» атты кітабының екінші кеңейтілген басылымының алғы сөзінен бастап фильмді интерпретациялаудың бастауы ретінде көптен бері Мартин Хайдеггердің философиялық ойларына иек артумен келеді. Сондай-ақ олардың көпшілігі Хайдеггер мен америкалық кинорежиссер Терренс Маликтің арасындағы байланысқа жіті назар аударады. Бұл екі тұлғаның еңбектерін үндестіруге деген қызығушылықтың артқаны сонша, кейінгі кезде Маликтің фильмдерін философиялық тұрғыда түсіндіру үшін Хайдеггер философиясына жүгіну жалпыға ортақ тәсілге айналды. Сондай-ақ, Малик пен Хайдеггер арасын параллель қойып салыстыра талдау шындығында ақылға қонымды. Себебі, режиссураға ден қоймас бұрын Малик алпысыншы жылдары Гарвардта Хайдеггер философиясын Стэнли Кэвеллден оқып, кейіннен біраз уақыт Хайдеггер философиясын зерттеуші Хьюберт Дрейфустың жетекшілігімен Массачусетс технология институтында сабақ берген.
Маликтің фильмдерін Хайдеггер философиясы арқылы танудың әдетті тәсіліне дазайн (нем.Dasein – «осында болу», «қатысу») тұжырымы, әсіресе Маликтің кейіпкерлері мен олардың арасындағы шиеленістерін ашатын түсінік аспектілерін қолдану жатады. Мәселен, оған жер және әлем, «әлемдегі болмыс», «өлімге адымдау», тастандылық, қорқыныш (Angst) әрі түпнұсқа кіреді. Сөз жоқ, дазайн Маликтің жұмыстарына философиялық ой жүгірту үшін қолайлы құрал саналады, өйткені дазайнда «нақтылықтың герменевтикасы» есепке алынған, яғни бұл адамның бар болуының мәні мен тұжырымын күнделікті өмірмен және әдеттегілікпен түсіндіру деген сөз. Қысқасы, дазайн Маликтің фильмдерінде басты тақырып саналатын адам экзистенциалдығын білдіру құралдарының ауқымын ашады.
Аталған жұмыста мен Хайдеггер мен Маликтің байланысын зерттеп қана қоймай, Хайдеггердің философиясын кинода қалай қолдануға болады деген өзекті сұраққа жауап іздеп, Малик пен Хайдеггерге қатысты әлі күнге дейін қалыптасқан көптеген біржақты түсінікті анықтаудан бастаймын. Біріншіден, Малик Хайдеггердің философиясымен айналысты екен деп, оның фильмдері тек хайдеггерлік философияны бейнелейді деп болжау күмән тудырады. Бұл екі тұлғаның тоғысуы кинодағы философияның рөлі туралы сауал үшін өте өзекті. Маликтің фильмдерін Хайдеггер арқылы түсіндіретіндер ұзақ уақыт бойы Хайдеггердің кино мен медиаға қатысты қатаң сынынан арылуға тырысып бақты. Хайдеггердің технологияға қатысты ойлары кино заттардың мәнін түбегейлі ашып көрсете алмайтындығын айқын білдіреді. Хайдеггер киноны нағыз көркемдік құрал ретінде мақұлдар ма еді немесе кино хайдеггерлік бола ала ма?
Егер біз Хайдеггердің киносынына қатысты әлдекім сын таға алады деп елестетсек те, кино философтың өнер философиясында қандай орын алады деген сауалда мәселе өзгеше өріс алады. Кино өндірісінде хайдеггерлік көзқарасқа қызығушылық танытатындар бұл қатынас туралы ұмытып кетуге я оны өткізіп жіберуге бейім. Хайдеггер «Болмыс пен уақыт» еңбегін жазғаннан кейін қуатты әрі өте ықпалды өнер философиясын тұжырымдағандықтан, бұл философтың кино өнерінің көркемдік мүмкіндіктері туралы ұстанымын талқылауды қажет етеді. Менің мақсатым – Хайдеггер мен киноға қайта баға беру; және Хайдеггердің Маликпен маңызды қарым-қатынасы бұрыннан мығым орныққандықтан, Маликтің жұмыстары «хайдеггерлік киноны» қалай бейнелегені туралы түсінікті таза парақтан бастау.
- Хайдеггер, кино және техника
Хайдеггердің әсіресе заманауи техника негізіндегі бұқаралық ақпарат құралдары туралы пайда болған ойлары біртекті. Ол киноны (ХХ ғасыр коммуникациясында пайда болған басқа да инновациялармен қоса) өмірді заманауи техника арқылы жаулап алудың шекті өнімі деп қарастырады. Хайдеггердің түсінігінде кинода қазіргі адамның «экранға қамау» арқылы өсіп шыққан (нем. Gestell – «жақтау») «бейнесінің» статикалық формасы бар. «Экранға қамауда» Хайдеггер шектеулі перспективизимді алға тартады, яғни қазіргі адам әлемді билік ететін «қор» деп қарап, нәтижесінде жер және оны мекен етуші тіршілік иелері тек материал я шикізат болып шығады. Экранға қамау әрі қарайғы адамның мүмкіндіктерін көрмейді.
Кино мейлі бір кадр я жалғаспалы болсын, оның өмірді статикалық бейнелер арқылы жаулап алуы Хайдеггердің экранға қамауға қатысты ойларына бейнелік үлгі бола алады. Камера таңдалған нысандарды назарға алады, кадрдан қажет еместің бәрін қиып тастайды – бұл киноның өмірді алдын-ала «кескін» түрде бейнелейтіндігіне байланысты. Тиісінше, кино сыны философтың біздің заманымыздың технологиядағы жеңістеріне қатысты ойларында кең талқыға салынған. «Метафизикаға кіріспе» (1953) атты еңбегінде Хайдеггер телекоммуникациялардағы иновациялар адамзат жаратылысының нигилизімінің сөзсіз көрінісі деп батыл баяндайды:
«Егер жер шарының соңғы бұрышын технология жаулап алып, экономикалық тұрғыдан дамыған болса, егер кез келген жерде және кез келген уақытта кез келген оқиға кездейсоқ қол жетімді болса, егер Францияда корольге жасалған «қастандық» пен Токиодағы симфониялық концертті бір уақытта «бастан өткерсеңіз», егер уақыт тек жылдамдық, мезет және дәйектілік қана болса, уақыт та тарих сияқты қайсыбір ұлттың қайсыбір болмысынан (Dasein) жоғалып кетсе, егер боксшы ұлы ұлттық қаһарман деп құрметтелсе, егер миллионға жететін бұқаралық жиындар болса – бұл үлкен жеңіс, — сол сәтте бұл даңғойлықтың бәрін неге? – қайда? – әрі қарай не болады деген сұрақтар елесімен бүркейді».
1950 жылы «Зат» атты дәрісінің қорытынды бөлімінде Хайдеггер бұл мәдени сынның киноға да бағытталғанын қадап айтады:
«Барлық уақыттық және кеңістіктік қашықтық тарылып барады. Бұрын адам апталап, айлап жететін жерлерге, қазір ұшатын көлікпен жарым түнде табан тірейді. Әлдебір ескі ақпаратқа қол жеткізу үшін араға жылдар салатын болса немесе мүлдем бейхабар өтсе, қазіргі радио сағат сайын қасқағымда хабарлайды. Талай уақыт бойы өсімдіктердің пісіп-жетіліп гүлденуі мезгіл сайын жасырын іске асса, кино мұны минуттық мезетте жалпы жұртқа жариялайды. Фильм ежелгі мәдениеттердің жырақтағы мекенін, дәл қазір адамдар көп жиналған алаңның ортасында орналасқандай етіп көрсетеді. Кино өзі көрсетіп отырған дүниесін камера мен оған қызмет етіп отырған адамды бір уақытта көруге мүмкіндік беру арқылы растайды».
Хайдеггер киноны тұтастай сынға алады, қанша дегенмен кинотүсірілім өмірдің минуттық мезеттерін ғана алып, адам көзіне дайын түрде көрсетіп, аталған мезеттерді түпнұсқадағы контексінінен толықтай алып тастайды. Кино тіпті өмірдегі елеусіз құбылыстардың өзін, барлығын кескін мен субъективті көрініске айналдырады.
Өзге жұмыстарында Хайдеггер радио мен киноны қарабайырлық пен әдеттегі ахуалды мақұлдайтыны үшін айыптайды. Философ бұған қарсы болмыстың төлтума тәжірибесі (Sein) тұрмыстан (Zurückweisung) толығымен бас тартып, өзін-өзі қорғауды (Abwehr) мұқият қажет етеді дегенді алға тартады. Шын мәнінде мазмұнды ойлау әрекеті болмыстың осы өлшемдерімен қабылдануы керек. Бірақ кино, радио және тұрмыстық хабар-ошарлар мұның бәрін өзінен жанама өткізіп жатыр.
Бұл сын әсіресе ХХІ ғасырдағы «ойын-сауықтың» өзге формалары ішінде кинематографтың жай-күйін бағалауда дәл көрінеді. Бүгінгі таңда дәстүрлі кино тәуелсіз мәдени құбылысқа қарағанда ауқымды ойын-сауық индустриясындағы бұранда секілді. Фильмдердің ең түсімі мол франшизалар ad infinitum-ға сәйкес келетін телевидение, бейне ойындар және интернет-медиада өз орны бар. Хайдеггер бәлкім фильмдердің DVD-де пайда болуына, мұны түсірілім процесіндегі бар құпияларды алып тастайтын режиссерлерді пікірлейтін ағындардың ұлғаюына, фильм түсіріліміндегі қысқа метраждылар мен басқа да қосымшаларға назарын аударған болар.
Мұндай сындарлы пікір Хайдеггердің кинодағы образдар заманауи адамның өзіне деген сенімді көзқарасқа ұмтылысын бейнелейді деген тұжырымын білдіреді. Яғни, біз өзіміз туралы фильм түсіреміз, кино әлемге адами көзқарас тұрғысынан қарайды, және оған арнап қызмет етеді. Танымал кинолар қашан да адамның өмірі, оның басына түскен махаббат, өлім, соғыс, жұмыс жағдайларына байланысты. Қазіргі киноиндустрияда дизайн мен графиканың сандық элементтерін кең қолданатын паралелль үрдіс қарқын алуда. Бұл аустралиялық философ Майкл Элдредтің ХХІ ғасырдағы «болмыстың цифрлы құймасы» деп атаған тұжырымының нығаюының белгісі, ол өз кезегінде қазіргі заманғы жан-жақты дүниетанымның математикалық және ғылыми көзқарасы болып саналады.
Кино сонымен қатар Хайдеггердің өмірде кез келген нәрсені бейнелуге болмайтынына қатысты қарсылық білдіруімен, ал фильмнің негізінде кез келген суретті ұстап қалу қағидасы жатқанымен түсіндіріледі. Хайдеггер «Техникаға қатысты сұрақтарда» шындықты мейлі кино немесе басқа образбен түсіну болсын, болмыстың өзін-өзі танытуында белгілі бір әдіспен шектелгенін («құпияны ашу») жазады. Хайдеггердің ойынша, суреттер мен кадрлар алынатын кино және фотографиялық әдістер болмыстың, құпияның яғни шындықтың ашылуын елемей, заттарды көзсіз «иектеп» алады. Қысқаша айтқанда кино фотографиялық әдіспен фотографиялық бейнелер арқылы әлемді көрудің тым шектеулі формасы.
ІІІ. Хайдеггердің өнер философиясы
Жоғарыда келтірілген үзінділерден Хайдеггердің киноға деген көзқарасы қатаң терістелген деген тұжырым жасауға болады. Бірақ таң қаларлығы, Хайдеггердің өзіндік өнер философиясы киноға көркемдік құрал ретінде оң баға беруде бұлтарыс жасау үшін біраз орын қалдырады. Кино мүмкіндіктері мәселесінде Хайдеггерді зерттеуде Джулиан Янгтың алар орны ерекше. Янг Хайдеггер қазіргі заманғы өнердің барлық түрін жаратпады дегенді жоққа шығарады; керісінше оның киносыны жалпы сипатқа ие және «киноортаның» нағыз көркем жетістіктерімен таныс емес. Қалай болғанда да Янг Хайдеггердің заманауи өнерді толығымен жаратпады деу жалған деген мәселеге назар аударады. Мысалы, Хайдеггердің Игорь Стравинский, Георг Тракль және Пауль Клее сынды тұлғаларға деген сүйіспеншілігі қазіргі мәдениеттегі көркемдік сезімталдықтың құлдырауына қатысты батыл мәлімдемелерін жоққа шығарады. Онда сұрақ Хайдеггердің айыптауларынан босап шығу үшін фильм қандай болу керек деген сипатқа өзгереді.
Хайдеггер өзінің бір жұмысында белгілі бір фильмді талқылап, бұл мәселені шешу үшін алаң ұсынады. «Тіл туралы диалогтың» кейіпкерлерінің бірі Акира Куросаваның «Расёмонына» шағын мақұлдаушы пікір береді. Шамасы Хайдеггердің өзі диалогта «Сұрақ қоюшы» кейіпкерге фильм «құпияға бастайтын ынтық сезімді бастан кешіруге» мүмкіндік береді дейді. Содан кейінгі диалогтың екінші кейіпкері – жапондық «Мен тыныштықта дамыл тапқан қолды еске аламын, ол сипамайды, тек қол тигізсе, жетіп жатыр. Оны тіпті мен ұғынатын қимыл деп те атауға келмейді. Осы себепті мен сіздің сөз саптауыңызды түсінемін. Шындығында бұл қол қиырдан тіпті одан да қашыққа үнсіз шақыратын қиырдан келіп, тыныштыққа енгендей», — дейді.
Бұл тұрғыда аталған үзінді киноны сынға алуды жалғастыра түседі.
Алайда жоғарыда келтірілген дәйексөздер Хайдеггердің «Расёмондағы» болмысқа деген мәнді көзқарасты білдіретін кем дегенде бір көріністі мойындайтынынан хабар береді. Сұрақ қоюшының жанасу күшінен асып түсіп, болмыстың үніне бағынуы туралы «қимылы» Хайдеггердің заттарға өздері қалай бар солай болуға, өздерін жұмбақтық пен тыныштықта ашуға жол беретін киноның жеткілікті түрде қолданылмай келе жатқан мүмкіндіктеріне деген жағымды көзқарасын білдіреді. Бұл қысқа үзінді киноның Хайдеггер үшін соншалықты мәселе тудырмайтыны, бірақ жоғарыда аталған сәттерді сипаттаудың негізгі ойы болмаса, мәселе басқаша құбылады.
Сонымен қатар «Расёмон» туралы осынау шағын ғана жазба оның Хайдеггердің өнер туралы жұмыстарының негізгі тақырыптарымен үндес келуіне байланысты одан сайын маңызы арта түседі. «Көркем шығарманың қайнар көзі» эссесі кино мәселесін Хайдеггер философиясы арқылы анықтауға үлкен ықпал ететін тәрізді. Бұл эссенің басты аргументі — нағыз өнер шындықты ашуға көмектеседі. Бұл көзқарас дәстүрлі философиялық эстетикаға қарсы келеді, себебі бұл эстетика адамның өнердегі тәжірибесін сипаттай келе оны мәңгілік бақылаушы және нысан деп бөліп, соған негіздейді. Өнердің осы қағидадан шығатын анықтамасы көркем шығармадағы ақиқаттың өзіне тән дербес күшін елемейді. Хайдеггер адамның пайымы бастапқыда шындыққа деген іңкәрлік сезімін қамтиды дейді. Осылайша Хайдеггер өнер сұлу немесе сол сияқтылардың тәжірибелеріне тәуелді емес деген эстетика аргументінің дәстүрлі түсініктерін өзгертеді. Өз кезегінде өнер ақиқат жаратылыста көрінеді. Хайдеггер «ақиқат» ұғымында «дұрыс ойлау» немесе шындыққа «сәйкестікті» нұсқамайды. Ол ақиқат – ақылға сыймайтын феномен дегенге сенімді. Ақиқат «ашу» ұғымын болжайды — гректер мұны «алетейя» (Άλήθεια) яғни жасырын нәрсені ашу деп атаған. Философ Ван Гогтың «Кебіс» (1886) картинасына сілтеме келтіріп, оны жарқын мысал етеді. Бұл картинаның ақиқатын ашудың түрлі тәсілдері арасынан Хайдеггер шаруаның киетін кебісінің қарапайым және көнбіс бейнесінің артындағы терең мағынаны ашып көрсетуге тырысады. Бұл ауқымды мәннің маңызды бөлігі – ынталы еңбек пен кембағал кедейлікте туған батыс өркениетін сақтай отырып, тарих арқылы адам өміріне негіздеген картинаның күші. Хайдеггер осы сипаттаудан өнер туындылары адам өмірінің тарихи бағыттағы оқиғаға айналуына қайта-қайта мүмкіндік беріп, ақиқатты сақтайды деген дәйек пайда болады.
Өнердің «пайда болуы» туралы сұрақты талдай отырып, Хайдеггердің өнер ештеңеден пайда болады және оның ақиқатқа айналуы үшін кеңістікті «тазартады» деген экзистенциалды жауабын көреміз. Демек, суретшінің немесе көрерменнің субъективті тәжірибесінің «өнердің шығу тарихына» еш қатысы жоқ. Хайдеггердің өнер туындысы өз бастауын өнерден алады деген ұстанымы шеңбер секілді.
Жоғарыда келтірілген аргументтерден өнер орындалатын формаларға шектеу қоймайды деген тұжырымға келуге болады. Мұндағы маңызды фактор жаратылыс ақиқаттың орындалуын «іске асырады». Екінші жағынан Хайдеггер өнер туындысының ақиқат пен тарихи мәнін жеткізе алу қабілеті жасырын (бәлки метафоралық) материалдыққа негізделген деп тұжырымдайды.
Осылайша, көркем туынды – бұл тек кез келген нысан ғана емес, жер бетіндегі материалдарды пайдаланып адам пішін берген заттар да оған жатады. Негізінен, Хайдеггерше айтқанда, өнер туындысы әлем мен жердің арасындағы «қақтығыс» немесе күрес. Жаратылыс өзінің сипатын жер бетінің түпкілікті жасыратын күшінен ақиқатқа жеткізуде көрсетеді. Хайдеггер «Ақиқат әлем мен жердің қайшы бағытында ағарту мен араласу арасындағы дау ретінде бар. Әлем мен жер арасындағы дау саналатын ақиқат жаратылыстың ішіне қарай ұмтылады», деп түсіндіреді.
Бұлай пайымдауда екі түрлі бірақ байланысты ұстаным бар. Біріншіден, өнер туындыларындағы пікірталас көркемдік ақиқаттың қысқа мерзімді мәнін көрсетеді. Кез келген өнер туындысының негізінде уақытшалық жатыр, оның ақиқаты тарихи маңыздылығын жоғалтуы мүмкін, ал ол жасалған материал сөзсіз ыдырайды. Қорытындылай келе, Хьюберт Дрейфустың сөзінше өнер «өледі», өнер әрқашан тұрақты емес, ол тарихтың ағынына бейміделген. Екіншіден, өнер туындылары негізіндегі күрес адам өмірінде ерекше кеңістік жасайды, мұнда әлем мен жер алғашқы үйлесімділігі мен қақтығысын көрсету үшін өзара бірігеді. «Бірақ әлем ашылғаннан кейін жер оның тұла бойынан өтіп, көкке көтеріледі… Әлем оның шешімділігін асыға күтіп, жаратылысқа өзінің жазық жолына шығуға мүмкіндік береді. Бәрін өз бойында ұстап, көтеріліп тұрған жер өзінің мүлгіген оқшау әлемінде қалуды аңсайды, ал бәрі өз заңына сенеді. Дау – бұл жай ғана айқас емес; дау – бұл бұл дауласушы күштердің бір-біріне деген өзара бейілдігін терең түсіну».
Жердің ақиқатты жасырудағы негізгі қасиеті соңғы дәйексөздің ең маңызды тұсы. Хайдеггер әлем мен жер арасындағы қарама-қайшылыққа басым мән беріп, өнер туындысы жердің болмысын баршаға ашып қана қоймай, өзінің табиғи жұмбақтығы мен құпиясын сақтайтын әлем мен кеңістікте пайда болатынын алға тартады. Басқаша айтқанда көркем туынды ақиқаттың пайда болуын өзінің жердегі болмысының арқасында жүзеге асырады.
Бұдан өзге Хайдеггер көркем шындық жерден тыс ашық кеңістікте пайда болады дегенге екпін келтіріп, «ашық кеңістіктер» (ашықтық, жазықтық) туралы «өндірілетін зат осылайша жазық кеңістікке орналастырылады, әрі бұл ең көп өндірілгендері ғана… және ашық кеңістікті қамтамасыз етеді…», — деп айтады. Және керісінше, «ашық кеңістік » ұғымы адам өмірі өтетін және барлығы сахнаға шығатын нағыз ақиқаттан тұратын кеңістікті білдіреді.
Қорытындылай келе, Хайдеггердің өнер философиясының маңызды бөлігі – бұл өнер мен тілдің байланысы. Оның ойынша, ақылынан адасқан бейнелік яки сезімдік өнер өз бастауын поэтикалық тәжірибеден алады. Хайдеггер «өнердің бар түрі өз болмысында поэзия» деп пайымдайды, ал поэзия тілмен түбегейлі байланысты.
Поэзия мен тілдің байланысы айқын, бірақ Хайдеггер өзінің сенімін сөздер мен заттардың байланысында тілдің рөлін түбегейлі қайта қарауға негіздейді яғни тілдің пайда болуы заттар өздерін көрсетіп, ашатын феноменологиялық оқиғаны құрайды дейді. Тіл үйрену тәжірибесі заттарды ашу, олардың көлеңкеден шығу үрдісімен қатар жүреді. Көркем шығармалар үшін бұл жұмыс барысында пайда болатын феномен тілдегі құбылыстарды бейнелейтінін білдіреді. Ван Гогтың мысалында жұп аяқ киімнің жасырын ақиқаты мен олардың ауқымды мәнінің ашылуы аяқ киімнің тілдегі шындығын жаңадан жасап шығады. Соңында, Хайдеггердің бұл тақырыптармен байланысы тіл өнердің «ашықтығына» деген құштарлығымен түбегейлі байланысты екендігіне әкеледі. «Тіл… алғаш болып ашық кеңістікке болмысты белгілі бір болмыс ретінде алып келеді. Тіл болмаған жерде… – болмыстың ашықтығы да болмайды», — дейді ол.
IV. Хайдеггердің өнер философиясындағы кино мәселесі
Енді мен киноның Хайдеггердің өнер философиясымен қандай байланысы барын негізге аламын. Шағын preview – мен киноны ақиқатты тудыруға қабілетті көркем құрал рөлінде, сонымен қатар Хайдеггердің тіл туралы ой-пікіріне сәйкес, поэтикалық мазмұнды жеткізуші ретінде қарастырамын.
Кинодағы ақиқат. Мен фильм ақиқатқа қалай әсер етеді деген дәстүрлі мәселеге мойын бұрмаймын. Бірақ хайдеггерлік өнер философиясында киноның ақиқатты «ашуға» (Άλήθεια) жол бермеуіне еш негіз жоқ. Өйткені, фильм дегеніміз – бұл қозғалмалы бейнелер арқылы заттарды ашу және табу. Заттар кезек-кезек жарық пен қараңғыда пайда болып, жоғалып отырады. Киноның ақиқатты ашудағы әлеуеті оның өзгеріп пайда болып, жылыстап отыратын заттардың мәнін ашуда оны тақырыптай ала ма немесе Хайдеггердің «Расёмонға» сілтеме бергені сияқты жасырын дүиені ашуға назар аудара ма дегеннен көрінеді.
Сол сияқты кино Хайдеггердің көркем шындыққа тарихи оқиға ретіндегі көзқарасынан көрінеді. Бірқатар салмақты фильмдер өздерінің мәдени біртектілігін жемісті мезеттер мен күш-жігерге негіздейді, мысалы, оқиғаның беталысы, мына адамдардың қайдан келгендігі, сипатталып жатқан оқиға адамдарды өздері кім оларды соған айналдыруы сияқты. «Азамат Кейн», «Метрополис» және «Құрышты Потемкин» мәдени біртектілікке негізделген фильмдерге теңдей үлгі бола алады.
Өнердің материалдық болмысын Хайдеггерше түйсініп, оны киномен үйлестіргенде технологияның қазіргі дамуына қатысты белгісіздік қылаң береді. Фотография мен кинотүсірілім туралы сөз қозғағанда олардың көрер көзге белгілі материалды тұсы туралы сеніммен айта алатын едік. Сынуға бейім және ыдырауға сезімтал келетін целлюлоидті пленканы пайдалану Хайдеггердің өнер жер мен әлем арасындағы дауды қалай тудыратыны туралы бірнеше он жылдықтар қатарынан сөз еткен мәлімдемелеріне сәйкес келеді. Алайда, қазіргі уақытта жағдай өзгерді, фильмдердің басым көпшілігі түсіріліп, сандық форматта сақталады. Кино дискілерде, компьютерлерде немесе киберкеңістіктің кез-келген жерінде сақталады, кинотанытымның қажеті жоқ. Технология жетістіктері фильмдерге мейлінше мөлдір, стандартталған және оңтайланған көркемдік құрал болуда жәрдем еткені сонша, фильмдердің материалды пайда болуы оларды тамашалу тәжірибесінен ізім-ғайым жоғалды. Техникамен жасалатын арнайы эффектілер мен трюктар көзге көрінбейді, адам киноның «нәзіктігін» ақырын-ақырын байқамай бара жатыр.
Жалпы бұлар кино мен өнерді хайдеггерлік түсінікте қабылдаудың бітімге келуіне кедерге келтіріп отыр, яғни жоғарыда аталған позициялар Хайдеггердің техникаға деген сынын тек күшейте түсетін сияқты. Алайда техникалық эволюция мен бұл көркемдік ортаның ымырасын табуға жәрдем ететін басқа да жақтар бар. Бәрінен бұрын кино Хайдеггердің «ашықтық» (жазықтық) тұжырымдамасы үшін мінсіз метафора қызметін атқара алады. Қанша дегенмен кез келген фильм қандай да бір нәрсені бейнелеумен ғана шектелетіндіктен (оған камераның кадры себеп), кино «ашық» болса да ақиқат пен мәннің аудио-визуалды кеңістігін жасап шығаруға қабілетті. Фильмді монтаждаудың түрлі аспектілері көрсетілген кескінге форма беріп, әрі жасырып та көрсете алады. Әрине, кинода ақиқаттың тууы – оның шегінің ұзақтығына байланысты. Яғни уақытшалық аспектісі кинофильмге ақиқатқа «ашықтық» (Άλήθεια) арқылы қол жеткізуге мүмкіндік береді – шындық «ашық кеңістікте» шектеулі уақытта туындайды.
Фильмдегі жарық та осындай әсерге ие. Бұл көркемдік ортаның болмысын қалыптастырады. Кинодағы бейнелер жарықтың көмегімен жасалады, өмірге келеді. Олар әлемнің тұрақты «құраушылары» емес, бірақ Хайдеггердің терминологиясына жүгінсек, олар жердің жасырын қараңғы қабатынан ашық кеңістікке шығуы үшін күш салуы керек… Әлбетте, бұл тақырыпқа әлі нүкте қойылған жоқ… Дегенмен Хайдеггердің кино туралы философиясына әсіресе жоғарыда көрсетілген аспектілеріне назар аударсақ, олардың бәрі кинокартинаның мерзімдік жарамдылығын жариялайтын тәсіл сияқты. Бұл дегеніміз, фильм өзінің қысқа мерзімді екенін мәлімдеп, ақиқат пен кеңістікті ашуға деген шектеулі болса да ұмтылысын білдіретін қадамдары.
Сайып келгенде, Хайдеггердің өнер идеясы контексінде кино үшін шешуші фактор не екенін ашып айту керек. Ол – фильмнің сыртқы «қабығы» емес, оның ақиқатты ашу, оң мен терісті динамикалық контраст ретінде көрсету қабілеті маңызды деген сөз. Бұған дәлел ретінде мен Хайдеггердің өнер туындысының бастауы – өнердің өзі, тек шығармашылық жасау ғана өнердің пайда болуына мүмкіндік береді деген сөзін қайталаймын. Әрбір фильм шындықты ашып көрсете ала ма? Мұндай жетістік туралы «бәрі не ештеңе» деп кесіп айту қиын-ақ. Көптеген фильмдер ақиқатты «ашқан» күннің өзінде ол тек шектеулі түрде. Кино құпияны ашуға тырысып, әлі де «экранға қамалғандықтан» (Gestell), мұндай шектеулердің басқа нәрселерге де қатысы бар. Басқаша айтқанда «алетейи» фильмдерінің жетістіктері «экранға қамалуға» ықпал ететін факторлардың ақиқатты ашудағы әлеуетті ықпалына жасырылуына байланысты. Мәселенің мәні Хайдеггердің аргументациясы өнерге оның орындалу құралына қарамастан тәуелсіз болуға мүмкіндік береді, себебі құралдың өзін алдын ала болжау мүмкін емес. Кино хайдеггерлік өнер бола ала ма – бұл феномен де жалпы көркем шындық сияқты бақылауға келмейтін нәрсе.
Кино және поэтика. Кино өнердің поэтикалық табиғатында хайдеггерлік тезисті нақты қолданғанын көрсетеді. Философтың логикасына жүгінсек, егер бар өнер түрі поэзия формасында бар болса, ал поэзия – бұл тіл болса, онда кино да (ақыры ол да өнер екен) тілден пайда болуы керек. Мұны түсіндіруге болады. Онда кино тілді «хайдеггерлік» ретінде бере ала ма деген сауал туындайды.
Кино ортасы тілдің хайдеггерлік түсінігін саналы ұғынуда керемет мүмкіндіктерге ие. Бұл тұрғыда фильм көрсете алатын ең маңызды нәрсе заттардың пайда болуы, олардың қалыптасуы болмақ. Бұл кино ортасы камераның фокусындағы нысандардың тіршілігін жандандырады деп айту тәсілі. Хайдеггердің көзқарасының тартымды тұсы — фильм бұған жалпы мағынада «тілсіз» қол жеткізе алады. Кино өзінің жаңа бейнелер мен сахналық көріністерді жинақтау арқылы, әрі нысандар мен қатынастарды жаңа ракурстан қарау арқылы өзінің поэтикалық қабілетіне ие.
Кинорежиссерлердің түсірілім алаңында жоспарланбаған яғни күтпеген оқиғалар болатыны туралы сөздері ойыма оралып отыр. Кино мұның бәрін айтылатын сөзден бұрын жасап қояды, әрі бәрін айқындалмаған қабілеттер арқылы ашып жібереді. Сондықтан мен фильмде Хайдеггер сипаттаған жалпы өнер поэзиясына ұқсас поэтикалық әлеует бар деп санаймын.
Қорытынды. Мен кино көркемдік құрал ретінде хайдеггерлік өнер философиясында көрнекі бейне үлгісінде қызмет етеді деген пікірді дәлелдедім. Хайдеггердің киноның нысандарды ұстап, қатырып, оларды жансыз бейнелерге айналдыратыны туралы негізгі ойы – бұл сын болса да, қай тұрғыда алып қарасаңыз да, шындыққа жанасады – кино Хайдеггердің ойынша көркем шындықтың моделін бейнелей алады. Расында, философтың өнер туралы пайымы киноның көрнекі аспектілері ақыр соңында қалай поэтикалыққа айналатынын суреттеуге көмектеседі.
Және бұл талқылаулардың тізбегін мейлінше асбтрактілі етейік, кинотеатрға барған кез келген адам саясат, қоғамдық тәртіп, махаббат я шындықтың болмысына қатысты бірде болмасын бірде өзіне тәжірибе жинайды. Менің ұсынысымның мәні — өнерді, поэзияны және тілді хайдеггерлік фенеменологиямен ашу кинода өз көрермендері үшін ақиқатты іске асыруда оның негізгі әлеуетін табуға қолғабыс етпек.
V. Мартин Хайдеггер және Терренс Малик
Осы ойларды ескере отырып, мен Терренс Маликтің фильмдеріне көшемін. Кіріспеде Маликтің жұмысын философиялық терминдер арқылы тануға тырысқандар үшін Хайдеггердің маңызы зор екенін атап өттім. Малик фильмдердің «өзіне тән» көрнекі поэзиясы үшін танымал. Бұл бөлімде Маликтің кинематографиясындағы кино мен Хайдеггердің өнер философиясындағы қарым-қатынас жайын анық көрсететін бірқатар ерекшеліктерді атап өткім келеді.
Маликтің баяны. Маликтің әр фильмінің басты ерекшелігі -әңгіме желісінен бөлек сюжеттік желілері болады. Малик экранда болып жатқан оқиғадан қалыс қалып қоятын кадрдан тыс дыбыстар мен монологтар арқылы экшн-бөліктер, әңгіме мен диалогтарды межелейтін тенденцияға ие. Кейіпкерлердің әрекеттері көріністерде де, олардың арасында да орындалады.
Оның фильмдерінде бас кейіпкерлер мен негізгі сценарий сияқты бірнеше дәстүрлі кинематографиялық элементтер бар болса да, бұлар көбіне бұлыңғыр болып қалады. Нәтижесінде көрермен қысқа эпизодтардан тұратын коллажды тамашалайды (Вирджиния Вулф шығармаларының әдеби стиліне ұқсас), онда көбіне дыбыстар мен оқиғалар бір-бірімен сәйкес келмейді, кенеттен үзіліп кетеді немесе аяқ астынын жоғалып, қайта пайда болады. Маликтің фильмдері бар қозғалыстың сомасы одан қарағанда ауқымды нәрсені білдіретін экзистенциалды армандарды еске түсіреді. Алайда, оның режиссерлік стилі фильмдерге көбіне сөзсіз сөйлеуге мүмкіндік береді. Фильмдер сюжеттерге қатысты түсінік бермейді, кейіпкерлердің ынтасы не, көрермен қандай басты идеяны үйренуі қажет деген мәселелер айқын емес. Бірақ Хайдеггердің өнер философиясына сәйкес, Маликтің жұмыстары миниатюралық эпизодтарды әлдеқайда ауқымды мәдени мағынада беріп, тарихи сипатқа ие болады.
Кинематография. Маликтің режиссурасында осы негізгі ерекшелігімен қатар пейзаж бен табиғи нысандарды, ағаш, шөп, түрлі жануарларды кадрда ұзақ әрі қозғалыссыз пайдалануы назар аудартады. Мұндай кадрларды Маликтің не үшін қолданатыны белгісіз, алайда оларды пайдалану болмысты «ештеңеге» бағыттап, тірі тіршілік иелерінің болып жатқан оқиғадағы бейнесін кеңейтеді. Бұдан бөлек режиссердің объективі көбіне камера үшін, тіпті адамның көзіне де ерекше деп саналатын құбылыстарды фокусқа алады. Мұндай бейімділігінен Маликтің фильмдегі үлкен қозғалыстың ажырамас бөлігі ретінде әлемде еленбейтін заттар мен тіршілік иелері арқылы адам қайғысының орнын толтырып, соған назар аудартқысы келгенін түсінеміз. Бұған басым екпін қоюында сюжеттік желі мен бейнелерге түсіндірменің болмауы да дәлел. Қашықтағы камера бұл нысандарға өмір сүріп, тыныс алып, өз-өздеріне тіл қатуы үшін жағдай жасайды.
Адам архетиптерінің қақтығысы. Маликтің жоғарыда аталған жұмыстарының режиссерлік және көрнекі тұстарыүшінші байланыстырушы элементпен тығыз байланысты, мен бұл туралы осы жерде қысқа ғана баяндап, әрі қарай детальдарға мойын бұрамын. Маликтің фильмдеріндегі кейіпкерлер негізінен архетиптік сипатқа ие және олардың нақты анықтамасы жоқ. Олардың тұлғалығы мен өткені фильм барысында аз ғана беріліп, толық ашылып, баяндалмайды. Маликтің кадрдан тыс дыбыс қолдануы кейіпкерлердің ынта-уәжін қаншалықты ашып көрсетсе, соншалықты жасырады. Мұндай дәйекті режиссерлік таңдау кейіпкерлерде кездесетін кикілжіңдердің фильмнің параметрлері мен контекстерінде жасырылған едәуір шиеленісін ашады. Хайдеггердің философиясын қолдана отырып, бұл фильмдердегі абыржу мен қатыгездіктен дауға ұласқан әлем мен жердің бейнесі кейіпкерлердің өмірінің бір бөлшегі саналады.
Мен жоғарыда тізген элементтердің әрқайсысы Маликтің режиссерлік дебюті «Шөлден» басталып, соңғы түсірілген «Өмір ағашы» (жұмыс 2011 жылы жазылған — ред) фильмографиясында неғұрлым нақтылыққа ие болғанын көруге болады. «Шөл» келесі жұмыстарға үлгі болып қана қоймай, назар аудартады. Фильм Холли (Сисси Спейсек) атты жасөспірім мен оның наразы жігіті Китаның (Мартин Шин) оқиғасын баяндаумен басталады, олар Оңтүстік Дакота мен Монтана үстірттері мен шалғынды даласын бет алып келе жатып, жолай кездейсоқ кісі өлтіруді бастайды. Көрермен Холлидің отбасында жалғыз бала екенін және оны жалғызбасты әкесінің тәрбиелегенін, ал Киттің қашан да ештеңеге көңілі толмайтын, соқа басып сопайып жүретін біреу екенін, өмірге ебедейсіз, шамамен жиырма бес жасқа толғанына қарамастан, «ересек» адамға ұқсамайтыны туралы аз ғана дәйек алады. Олардың қылмыстық әрекеттері мен қашқында өтіп жатқан өмірі көбіне өткен шақта Холлидің кадрдан тыс дауысы арқылы беріледі, бірақ көрерменге Холлидің оқиғаны болашақта қашан және қайта баяндап жатқаны туралы түсінік берілмейді. Холли фильмдегі оқиғалардан аластатылған. Одан өзінің жанына үңілу, өзін-өзі сынау немесе асқақ армандары байқалмайды, барлығы тым құрғақ баяндалып, қалыпқа құйылып қойған іспетті.
Маликтің әдеттен тыс, географиялық кинематография мен ұзақ қозғалыссыз тұратын кадрларға деген бейілдігі фильмде бірнеше рет төбе көрсетеді. Бірқатар көріністерде ашық көк аспанның құрғақ, кейде қаңырап бос жатқан жерлермен қарама-қарсы қойылған үстірттері, «аспан-жердің» қайшылығын көрсету үшін арнайы жасалғандай сезіледі. Басқа эпизодтарда камера бұл пейзаждардың флорасы мен фаунасына басым мән береді. Кит мал сою бекетінде жұмыс істеген кезіндегі қысқа кадрда осындай әдеттен тыс эпизодтардың бірі көрсетіледі. Камера жануарларды торға қамаған сәт пен Киттің олардың бастарын қысқышқа тіркеген сәтіне фокус қояды. Бір мезеттен кейін басқа кадр жерде шарасыз жатқан ауру бұзауға бағытталады. Бұл көріністерде диалог жоқ, тек көңілді және бейқам музыка ойнайды.
Кейін бас кейіпкерлердің Монтананың тақыр даласын кезіп келе жатқан сәтін бейнелеген тұста камераның фокусы артына мылтығын іліп алып, көкжиекке қарап тұрған Китқа ауысады, қысқа кадрда жабайы күркетауық, кесіртке және қаршыға көрсетіліп, олардың барлығы жердің деңгейінде үлкен планмен алынған; артынша камера тағы да Китке қарай ойысады. Бұл эпизодтар мен образдардың артық пікірсіз, баянсыз болғанына қарамастан, олардың мәні мен мағынасы үшін атап өтуге тұрарлық. Фильмнің басындағы көрнекі мысал бір уақытта Маликтің бірнеше фирмалық техникасын біріктіреді. Холли Китпен жасырын қатынасын біліп қойған әкесінің оның итін өлтіргені туралы кадрдан тыс баяндайды. Көріністің басында камера биік көк шөпті кезіп жүрген итке бағытталады. Көп ұзамай монтаж Холли бар кадрға ауысады, ол камераға қарап, көрерменге дыбыссыз, бірақ бейтарап күйде тіл қата бастайды. Холлидің кадрдағы дауысы тек итті өлтірердің алдында ғана күшейе түседі. Бұл эпизодта қозғалыссыз бірақ жарқын кадр мен «жылымық» монтажға қарсы қойылған Холлидің кадрдан тыс дауысының аз ғана уақытқа эмоционалды шеттетілгенін атап өткен жөн. Холлидің жер түстес ақ шалғын мен кешкі аспанның қанық көк-күлгін реңкімен бітіскен кадрдағы бейнесі әсер қалдырады яғни мұнда жарық беру де назар аудартады. Холли түсірілген кадрлар қызды қоршап тұрған биік әрі желмен қоса қозғалып тұрған шөптер мен оның ұзын шашының табиғи сұлулығын айқындайды. Сонымен қатар осындай бай табиғи кескіндер иттің қатыгездікпен өлтіріліп, Холлидің әкесінен алшақтауы арқылы контекстен шығарылады. Маликтің қасақана «сопайтып бере салған» образдары мен әңгімелері киноның мета-тілі сияқты нәрсеге ишара білдіретін тәрізді, ал эпизодтар Холлидің кадрдан тыс дауысы (тіпті тұтастай фильмнің өзі) бере алатынына қарамастан, оның шекарасынан асып түседі.
«Шөлдегі» ауыспалы жағдай протагонистердің ауыр тағдырымен байланысты болғандықтан мән беруге тұрарлық. Ең маңызды локациялардың көбі табиғатпен байланысты болса да, олар жайлы не қонақжай болып кетпейді. Мысалы, Холли мен Кит салған ормандағы баспана бастапқыда Руссоның «мейірбан жыртқышындай» әсер сыйлайды, бірақ олардың аңшылармен болған кезекті қақтығысынан кейін протагонистердің мұндай үйлесімге жетуге деген құлшынысы сәтсіз аяқталады. Дәл осындай сәйкестік Кейто (Рамон Биери) атты достарының ауылдағы үйінен баспана іздегенде қайталанады. Мүмкін, Холли мен Киттің соңғы сапарындағы Монтана пейзажының тақыр даласы табиғатқа тиесілі болса да қорқынышты және өмірге жарамсыз бейнені көрсетеді. Қықсасы Холли мен Киттің қашқындағы өмірі табиғатқа шырмалумен өтуі мүмкін, алайда табиғат пен жер олардың бетін қайтарады. Олардың күш-жігері өркениетті және табиғи әлемдегі жер мен әлемнің үнсіз қайшылығындағы «алетейи» (ашылу) миниатюрасының қызметін орындайды. «Алетейя» жай баяндаудан қарағанда қақтығыстар мен құбылыстар арқылы көбірек күш ала түседі.
Малик осыған ұқсас кинематография палитрасын өзінің 1978 жылғы жұмысы «Қырмандағы күндерде» қолданады. Шынайы оқиғаға құрылған «Шөлден» қарағанда «Қырмандағы күндердің» сюжеті ойдан шығарылған. Нәтижесінде фильм бізге тұлғалығы мен өткені тұманды архетипті кейіпкерлер ұсынады. Малик дыбыстауды тағы бір ерекше тәсілде қолданады – режиссер фильмнің бас аспектілерін жанама кейіпкер Линданың (Линда Манц) дауысы арқылы береді, бұл кейіпкер оқиғаға тікелей қатыспай, шеткері шығады. Нәтижесінде «Шөлдегідей» фильмді сюжеттен баяндаудың кезекті қозғалысы байқалып, жарқын тұлғаларға қарағанда адам субъективтілігіне үлгі бола алатын кейіпкерлер алға шығады.
Линда — Биллдің (Ричард Гир) қарындасы. Екеуі Биллдің ғашығы Эббиді (Брук Адамс) алып, заң үстемдігінен қашады. Үш бас кейіпкер Техастағы үлкен бидай фермасына уақытша жұмысшы болып орналасады. Фильмдегі басты кикілжің Билл мақсатты түрде Эббиге қатты науқастанған ауқатты фермерге (Сэм Шепард) тұрмысқа шығуға ұсыныс жасағанда басталды. Алайда үйлену тойынан кейін фермердің беті бері қарап, Эбби оған ғашық болып қалады. Фермер өзінің алданғаны туралы біліп қойғанда мұндай махаббат машақаты апатқа ұшыратады. Мұндағы сюжеттің басты бетбұрысы — Эббидің фермерге қалай ғашық болып қалғанын көрсетпейді. Сол сияқты біз оның Биллмен қатынасы қашан суып кеткенінен де бейхабармыз. Бұл олқылықтар Линданың кадрдан тыс дауысы арқылы толықтырылып, сюжеттің маңызды сәттері рационалдандыру мүмкіндігінің шегінен тыс, сөйлеуді қажет етпейтіндігімен түсіндіріледі. Маликтің түсірілімі осы фильмде де өзін ерек танытты, ол бидайдың көлкілдеген масағы, жануарлар, жәндіктер мен құстар, сондай-ақ фермердің үйі арқылы көрінеді. Маликтің ұзақ әрі қозғалыссыз кадрларды қолдануы детальдар мен поэзияда органикалық нысандарды айқындайды, әрі олар Американың осынау шаруақор елді-мекенінен табылады. Тиісінше, «Шөлде» табиғат кейіпкерлердің күш-жігерін көрсетіп, және керісінше оларға қарсы әрекет жасайтын айна үлгісінде қызмет етеді. «Қырмандағы күндер» Техастағы бидай алқаптарының көптігін жер, күн мен аспанның сыйы ретінде көрсетеді; сонымен қатар бұл сый фильмнің «тозақ» эпизодында өлімге душар ете жаздайды. «Шөлдегідей» «Қырмандағы күндер» табиғатпен үйлесімділікке сәтсіз ұмтылған адамның бейнесі ретінде таң қалдырады, бірақ оның беті қайтқаны сонша, орындалмай қалған адами қарым-қатынастар мен ұмтылыстардың дәлелі саналады.
Мен алғашқы екі фильмінде баса айтқан басты ерекшеліктер оның соңғы үш туындысында айқын көрінеді («Жіңішке қызыл сызық», «Жаңа Әлем» және «Өмір ағашы»). Кейінгі фильмдер экранда көрсетілген оқиғалардың ауқымын еңсеретін тағдырлы сәттер мен уақыт кезеңдерін сипаттайтын нақты тарихи нысанды назарға алады. Маликтің соңғы жұмыстарында көрнекі әдіс-тәсілдерінің дамығаны сонша, енді олар өзіне тән тақырыптық бағытын таңдай бастайды. Мәселен, бұл фильмдерде эллиптикалық сюжеттер көбейіп келеді, ал кадрдан тыс бір кейіпкердің орнына бірнеше кейіпкер дауыстап сөйлейді. Жалпы, фильмдер кез келген басты сюжеттен асып түсетін тарихи коллаждар мен әңгімелер жинағы іспетті. Малик көркем шығармаларды құруға үлкен қызығушылық танытады деп айтуға болады, олардың қозғалысы ауқымды шындықтың микрокосмын қамтамасыз етеді. Мысалы, «Жіңішке қызыл сызық» — тарихта талқыланған үш фильмнің арасындағы ең түйіндісі болса да, соғыстың қатаң шындығы арқылы мейлінше жетілген образда әрекет етеді. Фильмнің жайы мен мазмұны белгілі болғанымен, кинолента бас кейіпкерлерді немесе негізгі сюжетті нақты анықтамауға тырысып, өз-өзінен тіл қататын рефлексивті қозғалыстың барын көрсетеді. Бұған дәлел Гуадалканалдың тропикалық экожүйесіндегі ағаштар, көлкілдеген шөптер, өзге де жабайы хайуандар көрсетілген кадрлар. Ағаштың жоғары ұшын жер деңгейінен түсіретін камера фильмнің өң бойында қайталанып отыратын маңызы кадр. Бұл кадрдың қайталануы жерден көтеріліп, көкке бағытталу сезімін ұялатады – құдды майдан даласында құлаған сарбаздың соңғы баспанасы іспетті, эсхатология секілді, бұл болмыстың «жарқырауы», фильм үшін аралда жалғасып жатқан шайқастай маңызды болмақ. Қарапайым тілмен айтқанда, Маликтің камерасындағы табиғат кескіндері маңызды шайқастың бейнесін көрсеткендей өз бойында болмыстың ақиқатын танытады.
Осындай кинематографиялық лексика Маликтің 2005 жылғы фильмінде бар. «Жаңа әлем» деп аталатын картинада Вирджинияны ағылшындардың отарлауы, капитан Джон Смит (Колин Фарелл) пен жергілікті тайпалардың басшысының бірінің қызы Покахонтаспен (К’Орианка Килчер) аңызға айналған кездесуі сипатталады. Олар бір-біріне ғашық болып қалса да, олардың ынтасы мен ұмтылыстары хақында біз аз білеміз. Фильмде оқиға қос кейіпкердің дауысымен баяндалмайды, оның орнына экзистенциалды адасушылық пен күмәнді білдіретін монологтар оқылады. Бұл дыбыстаудың маңызды тұсы өмірді эмоционалды, «тілге дейінгі» сезіну түрінде пайда болып, олардың сөздері тікелей растау я мақсатты жаулап алудан қарағанда рухани нұсқаулық немесе бағыт ретінде қызмет етеді. Ағылшын қоныстанушыларының ауру, ашаршылық пен өлімге толы отарлық өмірге үйренуге тырысқан әрекеттері арасында Смит пен Покахонтастың махаббат ұшқыны пайда болады. Бірақ күрес пен қатыгездік қойдай жуас әрі бейбіт жаратылыс иелері поватенттер тайпасына қарама-қарсы қойылған. Өзен бойындағы ағаштар мен шөптерді жел шайқап, құстар көкте қалықтайды, ал үндістер болса, табиғатпен үйлесімде өмір сүреді. «Жіңішке қызыл сызықтағыдай» Маликтің кинематорафиялық шешімдеріндегі бір-біріне ұқсамайтын акценттер «Жаңа Әлемге» тарихи мәдениеттердің кездесуі, адам тағдыры және адамзаттың тіршілік етуінің кереметі сынды түбегейлі өзара байланысты шындықтарды терең ашуға мүмкіндік береді.
Мен бұл бөлімді Маликтің жақында аяқтаған жұмыстарының бірі «Өмір ағашына» қатысты пікіріммен тәмамдаймын. Әлбетте, бұл кинолентаны мен бұған дейін суреттеген режиссер стилінің фирмалық элементтерінсіз қарастыра алмаймыз. Бәлкім, қазіргі талқылау үшін ең маңыздысы – фильмнің тұманды болса да тарих пен уақытқа лайықталған құрылымы сияқты, онда уақыт экранға қамалмайды, бас кейіпкерлердің өмірінде емен-жарқын алға не артқа жылжып жүре береді. Шындығында үзілген уақытша құрылым көрерменге фильмді дәл түсіндіруде парадокс тудырады. Осы парадоксты шешудің әдісі ретінде мен Хайдеггердің өнердегі «ашылу» түсінігін жаратылыстың өзімен сәйкес келетін құбылыс ретінде қарастыратын тұжырымын тағы да алға шығарамын.
Бұл жағдайда фильмнің уақытша құрылымы ретінде көрінетін парадокс өзінің шынайы ақиқатын жүзеге асырады. Қанша дегенмен «Өмір ағашы» тек бір отбасының ғана емес, тұтастай алғанда өмірдің пайда болу тарихын бейнелейтіндіктен, Хайдеггерге сәйкес, аталған фильм адам тіршілігінің пайда болуының табиғи және теологиялық нұсқалараны жол ашады. Бұл ашулардың белгілі бір дискурсивті тұжырымдардарсыз бір-бірінен алшақ екенін атап өткен жөн. Аталған фильм тарихи сипаттағы бірқатар тақырыптарды — ғаламдағы адамзаттың шығу тегі, сондай-ақ өткен, осы және келер шақтағы әлемде әрі сол әлемнен тыс мекендейтін адамдарды бейнелейді. Осы тақырыптардың негізін құрайтын табиғат бейнесі О’Брайен әулетінің үйінің жанында өсіп тұрған алып ағаш. Маликтің фильмдерде ағашты жиі көрсетуі — жоғарыға қарай ұмсыну яғни биологиялық өсудің тікелей көрінісі, ал ағаштың басты кадрға алынуы немесе артқы планда бұлыңғырланып тұруы бұл Хайдеггердің өнерді әлем мен жердің қақтығысы ретінде беруін ғана білдірмейді, мұнда ағаштың теологиялық мәні яғни адамның осы дүниеден шығып, құдайлыққа жетуге деген күш-жігерін бейнелейді. Шын мәнінде «Өмір ағашында» көруге болатын түбегейлі жаңа элемент бұлыңғыр, бірақ Құдай мен табиғаттан тыс нәрселерге берілген сілтеме екені даусыз. Олар О’Брайен әулетінің өмірін әдетті, өте қысқа сахналармен диалогсыз және дыбысыз береді. Кадрлардың бірінде ас үйдегі орындық өз-өзінен үстелді бойлай айналады. Басқа түсініксіз сахналық көріністе ана (Джессика Честейн) періште сияқты жер үстінен жүреді. Фильмнің соңында «жұмақ» немесе қабір астындағы өмірге қатысты ұзақ эпизод бар. Фильмде Маликтің Құдайды бейнелуі өте шешуші мәнге ие, яғни Құдай өзінің жоқтығымен бар деген хайдеггерлік пайым іспетті. Кинокартинадағы әртүрлі ауызша болжамдар Құдайдың қолымен жасалған әлем туралы сөз етеді, бірақ, өз ақиқатын жүзеге асыруда бұл фильм Құдайды оның құпиялығы көз көрерлік жаратылысқа қарсы қойылған деп ашады.
VI. Қорытынды
Осы талқылауды аяқтай отырып мен Маликтің фильм түсірудегі поэтикалық стилі туралы пікірлерімді түйіндегім келеді. Сосын қорытындыда Малик пен Хайдеггердің жұмыстары арасындағы өзара байланысқа қайта ораламын. Мен Маликтің кинокартиналары киноның хайдеггерлік мәнде қалай өнерге айналатынына үлгі дегенді растаған едім. Өзім атап өткен Маликтің кинематографиялық стилінің элементтері оның фильмдерінде заттар өздерін дәл солай көрсетпесе де, олардың болмысын қалай бар солай «ашуға» мүмкіндік береді. Осы құралдар арқылы мен Маликтің жұмыстары жалпы хайдеггерлік кино сынынан аулақ бола алады деп санаймын. Терренс Маликтің туындылары ерекше поэтикалық; оның таныс заттарды, орындарды, тәжірибелерді оларды бірінші рет көріп тұрғандай қылып ашуда таланты бар. Бұл Хайдеггердің көркем (поэтикалық) жүректің тәжірибесінде тілде ашылатын болмыс жатыр деген тұжырымын мығымдай түседі. Кейіпкерлердің кадрдан тыс дауыстары олардың жекелеген оқиғаларын емес, керісінше тұтастай болмыстың ғажаптығын білдіреді. Олардың фильмдегі басты мақсаты – өзінің Болмыс поэзиясына жаңғырық болып біту сияқты. Маликтің кинокартиналарының тұрақсыздығы мен жатсынушылығын түйіндей келе, бұл Хайдеггердің киноның көркем құрал ретіндегі шектеулігі деген мәлімдемесінің алдын орайтын сыңайлы. Хайдеггер пленкаға кескіндерді алу бейнеленген нәрселерді статикалық және өлі етеді деп мәлімдегенде, мен Маликтің фильмдері бұл тенденцияны басып озып, хайдеггерлік тарихи пайымда жаратылыс шындықты ашуға жағдай жасайды. Режиссердің фильмдері суретке түсіру мүмкіндігі оны түсінумен тең деген жалған идеяны жоюға күш салады; Маликтің фильмдері әсер ала алмағандар мен әсер қалдыру мүмкін еместерге ым-ишара жасайы.
Менің бұл жұмыста Терренс Маликке ерекше көңіл бөлуімнің себебін – философтардың Хайдеггер мен Маликтің жұмыстарының арасындағы байланысқа тым асыра сілтеулері деп санаймын. Бұл әрине ақылға қонымды. Меніңше, көптеген кино мамандары дазайн тұжырымына, оны өнер философиясы тұрғысынан хайдеггерлік деп атауға лайық жұмыстар жасады. Малик хайдеггерлік өнерге қабілетті жалғыз режиссер деуге негіз жоқ. Малик пен Хайдеггердің тоғысуы киноны белгілі бір хайдеггерлік тақырыпша ретінде қарастырғаннан қарағанда киноның хайдеггерлік аспектілерін тұтастай кино ретінде қарастыру мәселесін алға тартады. Бірқатар кино философтары бұл фактіні мойындады. Бірақ Маликтің жұмыстарының бірқатар философиялық сараптамалары оны мойындаса да, бұған көз жұма қарайды. Егер сіз мұндай айырмашылыққа ақыры басым мән береді екенсіз, онда олардың барлығы бір картинаға қалай сыятынын байқау үшін Хайдеггердің кино мен өнерге қатысты өз ойларына да тоқталуыңыз керек деп санаймын. Хайдеггер кинода ақиқатты жүзеге асыру шартын қойып, фильмдерге өнер мәртебесін берер ме еді деген мәселеге мән беру керек. Сонда философтың көзқарасы бойынша кинодағы хабарламалар мен жұмыс тақырыптарына кіріспес бұрын киноның көркем шындықты қалай ашатыны туралы ой қорыту керек.
Менің жұмысым осы мәселелерді зерттеуге белгілі бір үлес қосады және өз жұмыстарында хайдеггерлік элементтерді қолданатын өзге де режиссерлер үшін жаңа кеңістік ашады деп сенемін. Себебі тек Терренс Малик қана хайдеггерлік өнерді жүзеге асыратын жалғыз режиссер бола алмайды ғой. Ең бастысы, кино ақиқатты көркем түрде ашуға көп мүмкіндік беретін құрал ретінде қарастырылуы керек. Киноның режиссерлер мен көрермендерге ашылмаған мүмкіндігі әлі де көп болуы ықтимал.
Аударған: Сафина Ақтай